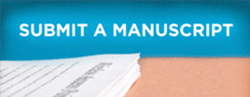Association of TRIM22 gene polymorphisms (N155D and T242R) with HIV infection in the Northwestern Federal District of Russia
- Authors: Ostankova Y.V.1, Davydenko V.S.1, Schemelev A.N.1, Totolian A.A.1
-
Affiliations:
- Saint Petersburg Pasteur Institute
- Issue: Vol 102, No 5 (2025)
- Pages: 530-538
- Section: ORIGINAL RESEARCHES
- URL: https://microbiol.crie.ru/jour/article/view/18973
- DOI: https://doi.org/10.36233/0372-9311-742
- EDN: https://elibrary.ru/JXLFFD
- ID: 18973
Cite item
Full Text
Abstract
Introduction. The human immunodeficiency virus (HIV) remains a global health challenge. The TRIM22 gene, which encodes a protein with antiviral activity, is a promising candidate for research, but its role in the pathogenesis of HIV infection in population of the Russian Federation has not been previously studied.
The aim of the study was to analyze the polymorphic variants rs7935564 (N155D) and rs1063303 (T242R) of the TRIM22 gene in HIV-infected individuals in the Northwestern Federal District.
Materials and methods. Polymorphic variants rs7935564 (N155D) and rs1063303 (T242R) of the TRIM22 gene were analyzed in groups of HIV-infected individuals with virological failure of antiretroviral therapy (n = 378) and practically healthy individuals (n = 319). Genotyping was performed using the polymerase chain reaction method followed by sequencing. Statistical analysis included testing for Hardy-Weinberg equilibrium of genotype distributions, assessing associations under 3 inheritance models (dominant, recessive, additive) with odds ratio (OR) and 95% confidence interval (CI) calculation, linkage disequilibrium analysis, and haplotype frequency analysis.
Results. The distribution of genotypes for the analyzed polymorphic variants was conformed to Hardy-Weinberg equilibrium expectations (p > 0.05). A significant association was found between the G allele of the rs7935564 polymorphism and the presence of HIV infection in both recessive (OR = 1.76) and additive (OR = 1.37) inheritance models. For polymorphism rs1063303, a significant association was observed only in the dominant model (OR = 1.40). Moderate linkage disequilibrium was found between the loci (D' = 0.4478; r² = 0.1572; p < 0.001). The G-G haplotype (rs7935564_G — rs1063303_G) was associated with the presence of infection (OR = 1.57).
Conclusion. In the Russian population, the polymorphic variant rs7935564 (N155D) of the TRIM22 gene is a significant genetic factor associated with HIV infection, while the results for rs1063303 (T242R) were statistically ambiguous. The association of the G-G haplotype with the presence of infection suggests a potential synergistic effect of these alleles. The data obtained highlight the importance of considering a population genetic background when evaluating the genetic determinants of the interaction between HIV and the host organism.
Full Text
Введение
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) продолжает оставаться одной из наиболее значимых глобальных проблем общественного здравоохранения. По последним эпидемиологическим данным1, в 2024 г. более 40 млн человек живут с этой инфекцией. Несмотря на впечатляющие успехи в разработке антиретровирусной терапии (АРТ), которая позволила трансформировать инфекцию из смертельного приговора в контролируемое хроническое заболевание, полная эрадикация вируса из организма остается недостижимой целью [1]. Одним из ключевых препятствий на этом пути является высокая генетическая изменчивость вируса и сложный характер его взаимодействия с иммунной системой хозяина [2]. Важнейшим компонентом врождённого иммунитета против вирусных инфекций являются интерферон-стимулированные гены, продукты которых формируют многокомпонентную противовирусную систему [3]. В последние годы всё большее внимание среди этих компонентов уделяется роли клеточных факторов рестрикции, которые представляют собой эволюционно древнюю первую линию защиты против патогенов [4]. Эти конститутивно экспрессируемые белки способны распознавать и напрямую ингибировать репликацию вируса на ранних этапах его жизненного цикла, до запуска адаптивного иммунного ответа.
Среди многочисленных факторов врождённого иммунитета особый интерес представляет семейство TRIM (Tripartite Motif), объединяющее белки, которые обладают E3-убиквитинлигазной активностью и участвут в разнообразных клеточных процессах, включая пролиферацию, апоптоз, аутофагию и противовирусную защиту [5, 6]. Ключевым механизмом их действия является опосредованная убиквитинизацией деградация вирусных компонентов или активация сигнальных путей, ведущих к синтезу интерферонов I типа и провоспалительных цитокинов [7, 8]. Представители этого семейства, такие как TRIM5α, хорошо известны своей способностью подавлять ретровирусы, включая ВИЧ, путём специфического связывания с вирусным капсидом и его преждевременной дестабилизации [9]. Однако другой член этого семейства, TRIM22, локализованный на хромосоме 11 в кластере с другими генами семейства TRIM, привлекает всё большее внимание как мощный регулятор противовирусного ответа, хотя его роль при ВИЧ-инфекции изучена в значительно меньшей степени и остаётся противоречивой [10]. Показано, что TRIM22 способен подавлять репликацию широкого спектра вирусов, однако данные о функции указанного белка относительно ВИЧ носят сложный и зачастую двойственный характер. Ряд исследований демонстрируют его прямую противовирусную активность. Так, установлено, что TRIM22 может ингибировать транскрипцию ВИЧ-1, подавляя активность его длинных концевых повторов (LTR), а также нарушать процессинг и сборку вирионов через взаимодействие с белком-предшественником Gag [12]. Более того, экспрессия TRIM22 негативно коррелирует с вирусной нагрузкой у пациентов, а его сверхэкспрессия in vitro приводит к эффективному подавлению репликации ВИЧ-1 [11, 12]. Эти данные позволяют рассматривать TRIM22 как важный компонент клеточной защиты против ВИЧ. С другой стороны, есть свидетельства о потенциально провирусной роли TRIM22 в определённых контекстах. Некоторые работы указывают на то, что TRIM22 может усиливать провоспалительный ответ через активацию NF-κB, что теоретически может способствовать хронической иммунной активации и прогрессированию заболевания [13]. Кроме того, есть предположения, что в зависимости от клеточного типа и фазы инфекции TRIM22 может оказывать разнонаправленные эффекты, выступая либо как фактор рестрикции, либо как модулятор иммунного ответа, непрямым образом влияющий на персистенцию вируса [14]. Эта неоднозначность подчёркивает сложность функционирования иммунной системы хозяина и необходимость дальнейших исследований для раскрытия точной роли TRIM22 при ВИЧ-инфекции.
Важным аспектом, определяющим функциональную активность белков семейства TRIM, является их генетический полиморфизм. Однонуклеотидные полиморфные варианты (single nucleotide polymorphism, SNP) в кодирующих и регуляторных областях гена TRIM22 могут влиять на уровень его экспрессии, стабильность белка или функциональность, тем самым модулируя индивидуальную восприимчивость к инфекции и скорость прогрессирования заболевания. Однако результаты исследований связи полиморфизма TRIM22 с ВИЧ-инфекцией зачастую противоречивы в популяциях с разным генетическим фоном. Этнические различия в частотах аллелей, структуре гаплотипов и наличии специфических генетических модуляторов могут кардинальным образом влиять на фенотипические проявления полиморфных вариантов. Таким образом, данные, полученные на популяциях Азии, Африки или Западной Европы, не могут быть автоматически экстраполированы на население России, которое характеризуется уникальным и сложным генетическим ландшафтом, сформированным многовековой историей смешения славянских, финно-угорских, тюркских и других групп [15]. В частности, популяции Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России демонстрируют отчётливый генетический профиль в рамках страны, что делает их особо интересным объектом для популяционно-генетических исследований [16]. Кроме того, циркулирующие в регионе штаммы ВИЧ представлены преимущественно генотипом А6 [17, 18], который имеет ограниченное распространение в мире и характеризуется определёнными молекулярно-биологическими особенностями. Взаимная адаптация, возникающая между генетическим фоном конкретной человеческой популяции и циркулирующими в ней вирусными вариантами, формирует уникальную эволюционную динамику, для понимания которой необходимы локальные региональные исследования. Несмотря на очевидную важность и потенциальную клиническую значимость, анализ ассоциаций полиморфных вариантов гена TRIM22 с ВИЧ-инфекцией в российских популяциях, в частности в СЗФО, до настоящего времени практически не проводился. Восполнение этого пробела является необходимым шагом для более глубокого понимания патогенеза ВИЧ-инфекции, определения генетических маркеров индивидуального риска и, в перспективе, разработки персонализированных подходов к профилактике и лечению данного заболевания. В связи с вышесказанным, особое внимание привлекают полиморфные варианты rs7935564 (A>G N155D) и rs1063303 (C>G T242R) гена TRIM22, ранее охарактеризованные в других географических регионах.
Целью исследования был анализ полиморфных вариантов rs7935564 (N155D) и rs1063303 (T242R) гена TRIM22 у ВИЧ-инфицированных лиц в СЗФО.
Материалы и методы
В качестве материала для исследования использовали образцы цельной крови, полученные от 378 пациентов с ВИЧ-инфекцией, у которых наблюдалась вирусологическая неэффективность АРТ, и 319 практически здоровых лиц без острых или хронических инфекционных и соматических заболеваний на момент обследования, постоянно проживающих в СЗФО. В контрольной группе возраст варьировал от 18 до 60 лет и составил в среднем 38,9 года; мужчин (n = 166; 52,04%) было незначительно больше, чем женщин (n = 153; 47,96%). В группе ВИЧ-инфицированных лиц возраст варьировал от 18 до 73 лет и составил в среднем 38,3 года; доля мужчин (n = 240; 63,49%) была значительно больше, чем женщин (n = 138; 36,51%).
Важным аспектом формирования выборки являлся контроль факторов риска заражения ВИЧ. Все участники исследования (как целевой, так и контрольной группы) являются уроженцами и жителями СЗФО, отрицают причастность к каким-либо группам повышенного риска инфицирования ВИЧ (потребители инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса, мужчины, практикующие секс с мужчинами, лица, имеющие половые контакты с представителями ключевых групп риска), а также практику рискованного полового поведения (непостоянное использование барьерной контрацепции, множественные половые связи), что предполагает общность социальной и эпидемиологической среды. Данный подход был направлен на минимизацию потенциальной систематической ошибки, связанной с неравной вероятностью встречи с вирусом в сравниваемых группах, и позволяет с большей уверенностью интерпретировать выявленные ассоциации как связанные именно с генетическими особенностями, а не с поведенческими факторами.
Выбор в качестве целевой группы пациентов с вирусологической неэффективностью АРТ был обусловлен необходимостью гарантированно включить в анализ лиц с установленным и подтверждённым диагнозом ВИЧ-инфекции, исключив возможные ошибки или невыявленную серореверсию. Данная когорта пациентов находится под постоянным наблюдением, что обеспечило надёжность верификации диагноза и доступность необходимых биологических образцов.
Все участники были ознакомлены с целью и методологией исследования и подписали информированное согласие. На проведение данного исследования было получено положительное решение Локального этического комитета Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (протокол № 110/а от 27.11.2020).
Экстракцию тотального препарата ДНК/РНК проводили с помощью комплекта реагентов «РИБО-преп» (ЦНИИ Эпидемиологии) с использованием реагента «Гемолитик». Для амплификации фрагментов гена, содержащих целевые локусы TRIM22 (rs7935564 A>G N155D; rs1063303 C>G T242R), использовали праймеры, описанные ранее [19, 20]. Состав амплификационной смеси представлял собой буферный раствор, содержащий Трис-HCl pH 8,8 (при 25°C), KCl, 6–7 мМ MgCl2, дезоксинуклеозидтрифосфаты, глицерол, Tвин-20, Taq+Phusion-полимеразы. Полимеразную цепную реакцию проводили при следующих условиях: после денатурации при 95°С в течение 15 мин устанавливали 45 циклов амплификации в режиме: 95°С — 30 с, 52–64°С — 30 с, 72°С — 1 мин 30 с — 3 мин 30 с; затем финальная элонгация при 72°С — 10 мин. Качество амплификации определяли визуально в 2% агарозном геле (120 В, 40 мин; 1xTBE), окрашенном бромистым этидием, с использованием системы гель-документации и последующим анализом на предмет наличия целевых фрагментов и их длины.
Продукты амплификации, как и в дальнейшем продукты секвенирующей реакции, очищали методом спиртового осаждения. Очищенный фрагмент с концентрацией 50–100 нг, в зависимости от нуклеотидного состава анализируемого участка, использовали для постановки секвенирующих реакций с прямых и обратных амплификационных праймеров. Секвенирующую реакцию осуществляли с использованием набора реагентов «ABI PRISM BigDye Terminator v. 3.1» («Applied Biosystems»). Полученные фрагменты анализируемых образцов секвенировали при помощи генетического анализатора «ABI PRISM 3500» («Applied Biosystems»).
Статистическую обработку данных выполняли с помощью лицензионных программ MS Excel («Microsoft»), Prizm 9.5.1 («GraphPad Software Inc.»). Осуществляли проверку соответствия распределения генотипов закону Харди–Вайнберга. Для оценки значимости различий использовали, в зависимости от характеристик выборок, точный критерий Фишера или критерий χ2 с поправкой Йетса, расчёт отношения шансов (OШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ). Дополнительно оценивали величины коэффициента неравновесного сцепления и рассчитывали частоту гаплотипов. В качестве порога достоверности отличий было определено значение вероятности p < 0,05.
Результаты
Распределение частот генотипов и аллелей исследованных полиморфных вариантов rs7935564 (A>G N155D) и rs1063303 (C>G T242R) гена TRIM22 с оценкой соответствия равновесию Харди–Вайнберга представлено в табл. 1.
Таблица 1. Распределение частот генотипов и аллелей, а также оценка соответствия распределения равновесию Харди–Вайнберга
Полиморфизм | Генотипы, аллели | Контрольная группа (n = 319) | ВИЧ-инфицированные лица (n = 378) | ||||
распределение генотипов, аллелей | pHWE | распределение генотипов, аллелей | pHWE | ||||
n | % | n | % | ||||
rs7935564 (A>G N155D) | A/A | 103 | 32,29 | 0,3 | 98 | 25,93 | 0,68 |
A/G | 165 | 51,72 | 195 | 51,59 | |||
G/G | 51 | 15,99 | 95 | 25,13 | |||
A | 0,58 | 0,5 | |||||
G | 0,42 | 0,5 | |||||
rs1063303 (C>G T242R) | C/C | 127 | 39,81 | 0,24 | 121 | 32,01 | 0,2 |
C/G | 140 | 43,89 | 197 | 52,12 | |||
G/G | 52 | 16,3 | 60 | 15,87 | |||
C | 0,62 | 0,58 | |||||
G | 0,38 | 0,42 | |||||
Примечание. pHWE — уровень значимости при равновесии Харди–Вайнберга.
В анализируемых группах распределение генотипов для всех полиморфных вариантов соответствовало ожиданиям равновесия Харди–Вайнберга (p > 0,05), что свидетельствует об отсутствии значительных отклонений, вызванных селекцией, миграцией или инбридингом, подтверждает репрезентативность сформированных выборок и надёжность полученных генетических данных.
Исходя из полученных данных, для комплексной оценки ассоциативной связи изученных полиморфных вариантов с наличием ВИЧ-инфекции был проведён расчёт ОШ в рамках 3 альтернативных моделей наследования: рецессивной, доминантной и аддитивной, результаты которого представлены в табл. 2. Провели оценку равновесности/неравновесности сцепления анализируемых локусов: D = 0,0969; D’ = 0,4478; r2 = 0,1572; p < 0,001. Таким образом, для двух анализируемых SNP в исследуемых группах показано умеренное неравновесное сцепление. Оценена частота гаплотипов в группах и проанализирована их ассоциация с ВИЧ-инфекцией (табл. 3).
Таблица 2. Оценка ассоциации полиморфных вариантов с ВИЧ-инфекцией
Полиморфизм | Модель | Генотипы | OШ | 95% ДИ | p |
rs7935564 (A>G N155D) | Доминантная | A/A | 1 | 0,065 | |
A/G-G/G | 1,36 | 0,98–1,89 | |||
Рецессивная | A/A-A/G | 1 | 0,0029 | ||
G/G | 1,76 | 1,21–2,58 | |||
Аддитивная | 1,37 | 1,11–1,71 | 0,0035 | ||
rs1063303 (C>G T242R) | Доминантная | C/C | 1 | 0,032 | |
C/G-G/G | 1,4 | 1,03–1,92 | |||
Рецессивная | C/C-C/G | 1 | 0,88 | ||
G/G | 0,97 | 0,65–1,45 | |||
Аддитивная | 1,17 | 0,94–1,45 | 0,16 |
Таблица 3. Ассоциация гаплотипов rs7935564/ rs1063303 с ВИЧ-инфекцией
rs7935564 | rs1063303 | Контрольная группа | ВИЧ-инфицированные лица | OШ (95% ДИ) | p |
A | C | 0,454 | 0,3912 | 1 | – |
G | G | 0,2518 | 0,3065 | 1,57 (1,16–2,12) | 0,0033 |
G | C | 0,1667 | 0,1895 | 1,21 (0,91–1,60) | 0,2 |
A | G | 0,1275 | 0,1128 | 0,89 (0,61–1,30) | 0,55 |
Обсуждение
Белок TRIM22 демонстрирует сложный и многоуровневый механизм противовирусной активности, в частности, против ВИЧ. Его экспрессия в лимфоцитах периферической крови и конститутивно присутствующая в ряде тканей человека индуцируется под действием интерферонов как I, так и II типа, а также модулируется в ответ на различные вирусные патогены и их антигены [21]. Одним из ключевых направлений противовирусного действия TRIM22 является подавление репликации ВИЧ, что было продемонстрировано в моделях промоноцитарных клеточных линий и первичных макрофагов, дифференцированных из моноцитов человека. Молекулярные механизмы этого подавления многогранны: TRIM22 способен ингибировать базальную активность промотора ВИЧ, не влияя при этом на Tat-зависимую или NF-κB-опосредованную трансактивацию, но эффективно блокируя экспрессию вирусных генов, опосредованную LTR и индуцированную форболовыми эфирами и иономицином.
Хотя TRIM22, как и другие представители семейства TRIM, не обладает способностью к прямому связыванию с ДНК, он опосредует свой эффект за счёт интерференции с клеточными факторами транскрипции. В частности, было показано, что TRIM22 нарушает связывание транскрипционного фактора Sp1 с его консенсусными сайтами в LTR ВИЧ, что объясняется способностью coiled-coil (CC) домена этих белков к гетеротипическим белок-белковым взаимодействиям [22]. Двухдоменная организация TRIM22 определяет двойственность его функций: N-концевой домен RING обладает E3-убиквитинлигазной активностью, что приводит к полиубиквитинилированию вирусных белков-мишеней и их последующей деградации по протеасомному пути [23]. В то же время С-концевой CC-домен участвует в формировании высокомолекулярных белковых комплексов, опосредуя более сложные и менее изученные механизмы рестрикции, которые могут включать: нарушение сборки вирионов, вмешательство во внутриклеточный транспорт вирусных компонентов или модуляцию сигнальных путей врождённого иммунитета [24]. Важно отметить, что данный процесс не ограничивается прямой деградацией мишеней, но также опосредует активацию ключевых компонентов врождённого иммунитета. В частности, показано, что олигомеризованный TRIM22 способен специфически активировать NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 2) — внутриклеточный паттерн-распознающий рецептор, играющий центральную роль в инициации провоспалительного ответа при обнаружении патогенов [25]. Активация NOD2 запускает каскад сигнальных событий, ведущих к активации NF-κB и продукции провоспалительных цитокинов, что усиливает антимикробную защиту клетки. Таким образом, аминокислотные замены в суперспиральном домене, вызванные изучаемыми в настоящей работе полиморфными вариантами, потенциально могут нарушать процессы мультимеризации TRIM22, что, в свою очередь, может менять его способность к полиубиквитинилированию и ослаблять активацию NOD2-опосредованного иммунного ответа, снижая эффективность противовирусной защиты [26]. Данные in vitro свидетельствуют о том, что эти аминокислотные замены ассоциированы со снижением супрессорной активности белка в отношении транскрипции ВИЧ и коррелируют с более тяжёлым течением заболевания у инфицированных лиц [10], что предполагает их критическую роль в функциональной целостности белка и его способности координировать многокомпонентный противовирусный ответ.
Проведённое исследование представляет собой первый анализ ассоциации несинонимичных полиморфных вариантов гена TRIM22 rs7935564 (N155D) и rs1063303 (T242R) с ВИЧ-инфекцией в популяции СЗФО. Полученные данные выявили сложный и разнонаправленный характер ассоциации изучаемых генетических вариантов с наличием ВИЧ-инфекции.
Ключевым результатом нашего исследования является выявление достоверной ассоциации rs7935564 с наличием ВИЧ-инфекции. Для аллеля G были получены убедительные доказательства его связи с наличием ВИЧ-инфекции. На это указывает значимость в наиболее мощной аддитивной модели (OШ = 1,37; 95% ДИ 1,11–1,71; p = 0,0035), а также в рецессивной модели (OШ = 1,76; 95% ДИ 1,21–2,58; p = 0,0029). Это позволяет предположить, что эффект данного варианта проявляется наиболее ярко в гомозиготном состоянии (G/G), что может быть связано с более выраженным изменением заряда и структуры белка в позиции 155, критически важной для его функционирования. Полученные нами результаты согласуются с результатами исследования в итальянской когорте, где была показана связь аллеля G rs7935564 гена TRIM22 с ВИЧ-инфекцией [10]. Интересно отметить, что в цитируемом исследовании наиболее значимая ассоциация с быстрым прогрессированием ВИЧ-инфекции была выявлена в рамках доминантной модели наследования.
Наблюдаемое расхождение с нашими данными, в которых максимальная ассоциация была обнаружена для рецессивной модели, может иметь несколько объяснений. Во-первых, фундаментальные различия в генетическом фоне между итальянской и северо-западной российской популяциями могут существенно влиять на паттерны генетических ассоциаций, включая модель наследования, что согласуется с известным феноменом популяционной специфичности геномной архитектуры сложных признаков. Во-вторых, критически важным фактором представляется дизайн исследования: в отличие от нашей работы, где анализировалась общая группа ВИЧ-инфицированных лиц с вирусологической неэффективностью АРТ, в исследовании S. Ghezzi и соавт. была проведена стратификация пациентов на подгруппы с разной скоростью прогрессирования заболевания. Такой подход позволяет выявить генетические детерминанты, специфически влияющие на скорость развития патологии, которые могут оставаться незамеченными при анализе нестратифицированной когорты. Кроме того, нельзя исключить, что различные модели наследования отражают плейотропный эффект изучаемого полиморфизма, который по-разному проявляется на разных стадиях инфекционного процесса — от первоначального заражения до поздних стадий иммунопатологии.
Для полиморфизма rs1063303 (T242R) полученные нами результаты менее однозначны. Несмотря на выявление слабой ассоциации в доминантной модели (OШ = 1,40; 95% ДИ 1,03–1,92; p = 0,032), отсутствие значимости в аддитивной и рецессивной моделях, а также широкий ДИ, пересекающий единицу, не позволяют сделать однозначный вывод о его независимой роли в исследуемой выборке. Сходные исследования в других географических регионах дали противоречивые результаты. Так, в вышеупомянутом исследовании ВИЧ-прогрессоров в Италии не выявлено связи rs1063303 с заболеванием [10]. В то же время в указанном исследовании для гаплотипа rs7935564 G + rs1063303 G показана достоверно более высокая частота встречаемости среди ВИЧ-инфицированных лиц с быстрым прогрессированием заболевания, чем среди лиц с медленным прогрессированием. Кроме того, известно, что полиморфизм rs1063303 оказывает обратное функциональное воздействие, увеличивая экспрессию TRIM22 и снижая его противовирусную активность [27], а повышенная экспрессия TRIM22 в мононуклеарных клетках периферической крови пациентов, инфицированных ВИЧ, связана с более низкой вирусной нагрузкой [28].
Важным аспектом нашего анализа стала оценка неравновесия сцепления между изучаемыми локусами. Выявленные значения (D' = 0,4478; r² = 0,1572) указывают на наличие умеренного, но статистически значимого исторического сцепления, что, однако, не является достаточным для того, чтобы считать эти полиморфные варианты маркерами друг друга. Низкое значение r², в частности, свидетельствует о том, что лишь около 15% вариаций одного локуса могут быть объяснены вариациями другого. Это подтверждает, что выявленная ассоциация для rs1063303, скорее всего, является независимой, а не опосредованной через сцепление с rs7935564. Отметим, что согласно открытым генетическим базам данных, например, 1000 Genomes Project [29], анализируемые SNP показывают неравновесность сцепления от слабой до умеренной. В популяциях Восточной Азии можно ожидать сильного сцепления (значения D' могут быть высокими, ~0,8–1,0), однако даже здесь показатель r² (который наиболее важен для прогнозирования) часто остаётся низким (< 0,3), то есть, несмотря на историческую тенденцию к совместному наследованию, по одному SNP нельзя уверенно предсказать другой. В европейских популяциях сцепление слабее (значения r² часто низкие, < 0,2) или отсутствует [10]. Несмотря на слабое или умеренное сцепление, «предпочтительным» (часто встречающимися вместе аллелями) гаплотипом rs7935564 — rs1063303 является А-С, а гаплотипом, связанным с наличием ВИЧ-инфекции, — G-G. В нашей работе гаплотип A-C был наиболее распространён и в контрольной, и в целевой группе. При этом мы не выявили логичного протективного эффекта этого гаплотипа по отношению к ВИЧ-инфекции, показана лишь тенденция к защитному эффекту, не достигшая статистической значимости. Напротив, для «гаплотипа риска» G-G подтверждена ассоциация с ВИЧ-инфекцией (OШ = 1,57; 95% ДИ 1,16–2,12; p = 0,0033), что указывает на возможный синергетический эффект двух аминокислотных замен. Этот гаплотип может определять конформацию белка, которая менее эффективно подавляет репликацию ВИЧ или модулирует иммунный ответ таким образом, что косвенно способствует персистенции вируса.
Ограничением нашего исследования является его дизайн «случай–контроль», который не позволяет установить причинно-следственную связь, а также относительно небольшой размер выборки, что могло ограничить мощность для выявления слабых ассоциаций, особенно для rs1063303. Наши результаты иллюстрирует феномен популяционной специфичности генетических ассоциаций, который является общепризнанным в современной генетике сложных заболеваний [30, 31]. Это подчёркивает необходимость дальнейших лонгитюдных исследований с увеличением объёмов выборки и тщательным клинико-генетическим сопоставлением для полного раскрытия роли полиморфных вариантов гена TRIM22 в патогенезе ВИЧ-инфекции.
Заключение
Проведённое исследование демонстрирует значимую ассоциацию несинонимичного полиморфного варианта rs7935564 (N155D) гена TRIM22 с наличием ВИЧ-инфекции в популяции СЗФО, в то время как для варианта rs1063303 (T242R) получены статистически неоднозначные результаты. Выявленная ассоциация гаплотипа G-G (rs7935564_G — rs1063303_G) с наличием инфекции свидетельствует о потенциальном синергетическом эффекте данных аллелей. Полученные данные вносят вклад в понимание молекулярных механизмов врождённого противовирусного иммунитета, указывая на роль белка TRIM22 в модуляции взаимодействия «вирус–хозяин» при ВИЧ-инфекции, и отражают важность учёта популяционной специфичности генетических факторов при изучении взаимодействия ВИЧ и организма хозяина.
1 Global HIV & AIDS statistics — Fact sheet / UNAIDS 2024 epidemiological estimates. URL: https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet (дата обращения: 14.08.2025).
About the authors
Yulia V. Ostankova
Saint Petersburg Pasteur Institute
Author for correspondence.
Email: shenna1@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-2270-8897
Cand. Sci. (Biol.), Head, Laboratory of immunology and virology of HIV, senior researcher, Laboratory of molecular immunology
Russian Federation, St. PetersburgVladimir S. Davydenko
Saint Petersburg Pasteur Institute
Email: vladimir_david@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0078-9681
junior researcher, Laboratory of immunology and virology of HIV
Russian Federation, St. PetersburgAlexander N. Schemelev
Saint Petersburg Pasteur Institute
Email: tvildorm@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3139-3674
Cand. Sci. (Biol.), junior researcher, Laboratory of immunology and virology of HIV
Russian Federation, St. PetersburgAreg A. Totolian
Saint Petersburg Pasteur Institute
Email: totolian@pasteurorg.ru
ORCID iD: 0000-0003-4571-8799
Dr. Sci. (Med.), Professor Academician of the Russian Academy of Sciences, Head, Laboratory of molecular immunology, Director
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Bekker L.G., Beyrer C., Mgodi N., et al. HIV infection. Nat. Rev. Dis. Primers. 2023;9(1):42. DOI: https://doi.org/10.1038/s41572-023-00452-3
- Schemelev A.N., Davydenko V.S., Ostankova Y.V., et al. Involvement of human cellular proteins and structures in realization of the HIV life cycle: a comprehensive review, 2024. Viruses. 2024;16:1682. DOI: https://doi.org/10.3390/v16111682
- Ali S., Mann-Nüttel R., Schulze A., et al. Sources of type I interferons in infectious immunity: plasmacytoid dendritic cells not always in the driver's seat. Front. Immunol. 2019;10:778. DOI: https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00778
- Duggal N.K., Emerman M. Evolutionary conflicts between viruses and restriction factors shape immunity. Nat. Rev. Immunol. 2012;12(10):687–95. DOI: https://doi.org/10.1038/nri3295
- Hatakeyama S. TRIM family proteins: roles in autophagy, immunity, and carcinogenesis. Trends Biochem. Sci. 2017;42(4): 297–311. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tibs.2017.01.002
- Liu Y. The role of TRIM proteins in antiviral defense. HSET. 2023;74:1655–60.
- van Tol S., Hage A., Giraldo M.I., et al. The TRIMendous role of TRIMs in virus-host interactions. Vaccines (Basel). 2017;5(3):23. DOI: https://doi.org/10.3390/vaccines5030023
- van Gent M., Sparrer K.M.J., Gack M.U. TRIM proteins and their roles in antiviral host defenses. Annu. Rev. Virol. 2018;5(1):385–405. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-virology-092917-043323
- Stremlau M., Owens C.M., Perron M.J., et al. The cytoplasmic body component TRIM5alpha restricts HIV-1 infection in Old World monkeys. Nature. 2004;427(6977):848–53. DOI: https://doi.org/10.1038/nature02343
- Ghezzi S., Galli L., Kajaste-Rudnitski A., et al. Identification of TRIM22 single nucleotide polymorphisms associated with loss of inhibition of HIV-1 transcription and advanced HIV-1 disease. AIDS. 2013;27(15):2335–44. DOI: https://doi.org/10.1097/01.aids.0000432474.76873.5f
- Turrini F., Marelli S., Kajaste-Rudnitski A., et al. HIV-1 transcriptional silencing caused by TRIM22 inhibition of Sp1 binding to the viral promoter. Retrovirology. 2015;12:104. DOI: https://doi.org/10.1186/s12977-015-0230-0
- Singh R., Patel V., Mureithi M.W., et al. TRIM5α and TRIM22 are differentially regulated according to HIV-1 infection phase and compartment. J. Virol. 2014;88(8):4291–303. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.03603-13
- Eldin P., Papon L., Oteiza A., et al. TRIM22 E3 ubiquitin ligase activity is required to mediate antiviral activity against encephalomyocarditis virus. J. Gen. Virol. 2009;90(Pt3):536–45. DOI: https://doi.org/10.1099/vir.0.006288-0
- Kajaste-Rudnitski A., Marelli S.S., Pultrone C., et al. TRIM22 inhibits HIV-1 transcription independently of its E3 ubiquitin ligase activity, Tat, and NF-kappaB-responsive long terminal repeat elements. J. Virol. 2011;85(10):5183–96. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.02302-10
- Balanovsky O., Rootsi S., Pshenichnov A., et al. Two sources of the Russian patrilineal heritage in their Eurasian context. Am. J. Hum. Genet. 2008;82(1):236–50. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2007.09.019
- Yunusbayev B., Metspalu M., Metspalu E., et al. The genetic legacy of the expansion of Turkic-speaking nomads across Eurasia. PLoS Genet. 2015;11(4):e1005068. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1005068
- Schemelev A.N., Ostankova Yu.V., Zueva E.B., et al. Detection of patient HIV-1 drug resistance mutations in Russia’s Northwestern Federal District in patients with treatment failure. Diagnostics. 2022;12(8):1821. DOI: https://doi.org/10.3390/diagnostics12081821
- Щемелев А.Н., Останкова Ю.В., Валутите Д.Э. и др. Риск неэффективности терапии первой линии у пациентов с ВИЧ в Северо-Западном федеральном округе России. Инфекция и иммунитет. 2023;13(2):302–8. Schemelev A.N., Ostankova Yu.V., Valutite D.E., et al. Risk assessment of firstline treatment failure in untreated HIV patients in Northwestern federal district of the Russian Federation. Russian Journal of Infection and Immunity. 2023;13(2):302–8. DOI: https://doi.org/10.15789/2220-7619-RAO-2122
- Mobasheri S., Irani N., Sepahi A.A., et al. Evaluation of TRIM5 and TRIM22 polymorphisms on treatment responses in Iranian patients with chronic hepatitis C virus infection. Gene. 2018;676:95–100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gene.2018.07.023
- Boswell M.T., Yindom L.M., Hameiri-Bowen D., et al. TRIM22 genotype is not associated with markers of disease progression in children with HIV-1 infection. AIDS. 2021;35(15):2445–50. DOI: https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000003053
- Hattlmann C.J., Kelly J.N., Barr S.D. TRIM22: A diverse and dynamic antiviral protein. Mol. Biol. Int. 2012;2012:153415. DOI: https://doi.org/10.1155/2012/153415
- Pagani I., Poli G., Vicenzi E. TRIM22. A multitasking antiviral factor. Cells. 2021;10(8):1864. DOI: https://doi.org/10.3390/cells10081864
- Lian Q., Sun B. Interferons command Trim22 to fight against viruses. Cell. Mol. Immunol. 2017;14:794–6. DOI: https://doi.org/10.1038/cmi.2017.76
- Vicenzi E., Poli G. The interferon-stimulated gene TRIM22: A double-edged sword in HIV-1 infection. Cytokine Growth Factor Rev. 2018;40:40–7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2018.02.001
- Inoue A., Watanabe M., Kondo T., et al. TRIM22 negatively regulates MHC-II expression. Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell Res. 2022;1869(10):119318. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2022.119318
- Li Q., Lee C.H., Peters L.A., et al. Variants in TRIM22 that affect NOD2 signaling are associated with very-early-onset inflammatory bowel disease. Gastroenterology. 2016;150:1196–207. DOI: https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.01.031
- Kelly J.N., Woods M.W., Xhiku S., Barr S.D. Ancient and recent adaptive evolution in the antiviral TRIM22 gene: identification of a single-nucleotide polymorphism that impacts TRIM22 function. Hum. Mutat. 2014;35(9):1072–81. DOI: https://doi.org/10.1002/humu.22595
- Singh R., Gaiha G., Werner L., et al. Association of TRIM22 with the type 1 interferon response and viral control during primary HIV-1 infection. J. Virol. 2011;85(1):208–16. DOI: https://doi.org/10.1128/JVI.01810-10
- Auton A., Brooks L.D., Durbin R.M., et al. A global reference for human genetic variation. Nature. 2015;526(7571):68–74. DOI: https://doi.org/10.1038/nature15393
- Prohaska A., Racimo F., Schork A.J., et al. Human disease variation in the light of population genomics. Cell. 2019;177(1): 115–31. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.01.052
- Brandes N., Weissbrod O., Linial M. Open problems in human trait genetics. Genome Biol. 2022;23(1):131. DOI: https://doi.org/10.1186/s13059-022-02697-9
Supplementary files